Уголовный защитник должен быть…вооруженный знанием и глубокой честностью, умеренный в приемах, бескорыстный в материальном отношении, независимый в убеждения, стойкий в своей солидарности с товарищами.
А.Ф. Кони
А.Ф. Кони
Исторически сложилось так, что любое профессиональное сообщество может устойчиво существовать и эффективно развиваться, только если все его члены разделяют основополагающие принципы, на которых базируется деятельность сообщества. Адвокатура – не исключение. Одним из фундаментальных принципов российской адвокатуры является законодательно закрепленный принцип независимости. Так, адвокатура в соответствии с Законом об адвокатуре является профессиональным сообществом адвокатов, и как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и местного самоуправления. В целях обеспечения доступности юридической помощи для населения и содействия адвокатской деятельности госорганы обеспечивают гарантии независимости адвокатуры.
Указанная формулировка выбрана не случайно, в ней фактически определены условия взаимоотношений государства и адвокатского сообщества. Тем самым законодатель провозгласил независимость адвокатуры от государства и обозначил обязанность последнего обеспечить в целях соблюдения и защиты прав граждан, предписанных ст. 2 Конституции РФ, реальную независимость адвокатского сообщества.
Однако так было не всегда.
Указанная формулировка выбрана не случайно, в ней фактически определены условия взаимоотношений государства и адвокатского сообщества. Тем самым законодатель провозгласил независимость адвокатуры от государства и обозначил обязанность последнего обеспечить в целях соблюдения и защиты прав граждан, предписанных ст. 2 Конституции РФ, реальную независимость адвокатского сообщества.
Однако так было не всегда.
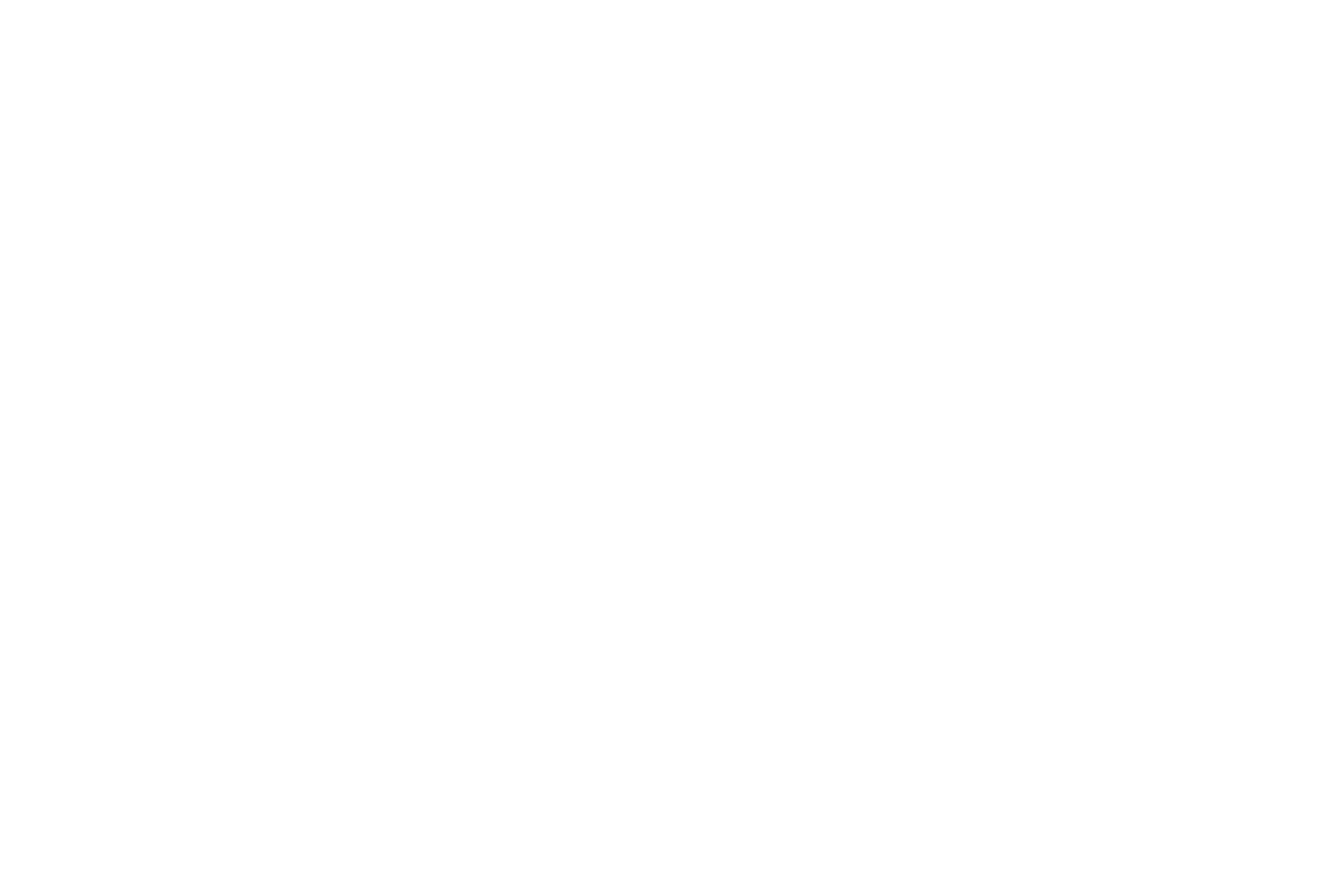
Вопрос о целесообразности наличия в России института профессиональных защитников и его взаимоотношения с государством длительное время болезненно и негативно воспринимались властями. Так, позиция Екатерины II по этому поводу была жесткой и непреклонной: «Адвокаты ˂...˃ никогда законодательствовать не будут, пока я жива, а после меня будут следовать моим началам» 1. Аналогичного мнения придерживался император Николай I, который заявил: «Пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты. Проживем и без них»
2. Схожее отношение к адвокатуре провозглашалось и Советской властью. Так, В.И. Ленин писал: «Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение. Брать адвокатов только умных, других не надо. Но все же лучше адвокатов бояться и не верить им». Нельзя сказать, что эти опасения были напрасны, – вплоть до середины 1930-х гг. оппозиционность в адвокатской среде была нередким явлением.
После октябрьских событий 1917 г. институт адвокатуры был упразднен и вновь возродился лишь в 1922 г., фактически став полностью подконтрольным государству. В книге «Записки советского адвоката (20–30-е гг. )» Н.В. Палибин отмечал: «Задачи советской судебной системы те же, что и НКВД, т.е. приведение населения к полной покорности»3. Ни о какой независимости и саморегулировании корпорации в тот период не могло быть и речи.
Полномочия адвокатов на стадии предварительного расследования и в суде начали расширяться только в 1960-е гг. С 1962 г. для получения статуса адвоката наличие высшего юридического образования стало обязательным.
Положения Закона об адвокатуре, закрепляющие принципы законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также равноправия адвокатов, стали революционными для сообщества. Фактически за адвокатурой был закреплен статус субъекта негосударственного контроля за соблюдением прав и свобод граждан.
Какие бы чувства на протяжении всего периода своего существования адвокатура ни вызывала у представителей государственной власти, она никогда не оставляла их равнодушными. Вероятно, это происходило в том числе потому, что членами адвокатского сообщества были думающие, образованные люди, к мнению которых общество прислушивалось, что, в свою очередь, порождало желание тем или иным образом влиять на процессы, происходящие внутри корпорации.
Со временем роль адвокатуры в жизни современной России и ее граждан усиливалась, что неизбежно вело к новым попыткам госорганов оказать влияние на адвокатское сообщество. Одним из ярких примеров стало утверждение Минюстом России в 2016 г. Требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса (Приказ от 14 декабря 2016 г. № 288). Установленная форма обязывала адвоката указывать персональные данные лица, в интересах которого направляется запрос, а также иные сведения, относящиеся к адвокатской тайне.
Адвокатское сообщество, руководствуясь интересами доверителей и отстаивая свою независимость, смогло добиться устранения нарушений Закона об адвокатуре, хотя на это потребовался длительный срок. Так, 4 декабря 2020 г. зарегистрирован Приказ Министерства юстиции РФ от 30 ноября 2020 г. № 295, которым внесены изменения в указанные Требования, благодаря чему адвокаты получили право не указывать персональные данные доверителей, если последние против этого возражают. Это стало важной победой, отражающей незыблемость принципов института адвокатуры.
2. Схожее отношение к адвокатуре провозглашалось и Советской властью. Так, В.И. Ленин писал: «Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение. Брать адвокатов только умных, других не надо. Но все же лучше адвокатов бояться и не верить им». Нельзя сказать, что эти опасения были напрасны, – вплоть до середины 1930-х гг. оппозиционность в адвокатской среде была нередким явлением.
После октябрьских событий 1917 г. институт адвокатуры был упразднен и вновь возродился лишь в 1922 г., фактически став полностью подконтрольным государству. В книге «Записки советского адвоката (20–30-е гг. )» Н.В. Палибин отмечал: «Задачи советской судебной системы те же, что и НКВД, т.е. приведение населения к полной покорности»3. Ни о какой независимости и саморегулировании корпорации в тот период не могло быть и речи.
Полномочия адвокатов на стадии предварительного расследования и в суде начали расширяться только в 1960-е гг. С 1962 г. для получения статуса адвоката наличие высшего юридического образования стало обязательным.
Положения Закона об адвокатуре, закрепляющие принципы законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также равноправия адвокатов, стали революционными для сообщества. Фактически за адвокатурой был закреплен статус субъекта негосударственного контроля за соблюдением прав и свобод граждан.
Какие бы чувства на протяжении всего периода своего существования адвокатура ни вызывала у представителей государственной власти, она никогда не оставляла их равнодушными. Вероятно, это происходило в том числе потому, что членами адвокатского сообщества были думающие, образованные люди, к мнению которых общество прислушивалось, что, в свою очередь, порождало желание тем или иным образом влиять на процессы, происходящие внутри корпорации.
Со временем роль адвокатуры в жизни современной России и ее граждан усиливалась, что неизбежно вело к новым попыткам госорганов оказать влияние на адвокатское сообщество. Одним из ярких примеров стало утверждение Минюстом России в 2016 г. Требований к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса (Приказ от 14 декабря 2016 г. № 288). Установленная форма обязывала адвоката указывать персональные данные лица, в интересах которого направляется запрос, а также иные сведения, относящиеся к адвокатской тайне.
Адвокатское сообщество, руководствуясь интересами доверителей и отстаивая свою независимость, смогло добиться устранения нарушений Закона об адвокатуре, хотя на это потребовался длительный срок. Так, 4 декабря 2020 г. зарегистрирован Приказ Министерства юстиции РФ от 30 ноября 2020 г. № 295, которым внесены изменения в указанные Требования, благодаря чему адвокаты получили право не указывать персональные данные доверителей, если последние против этого возражают. Это стало важной победой, отражающей незыблемость принципов института адвокатуры.
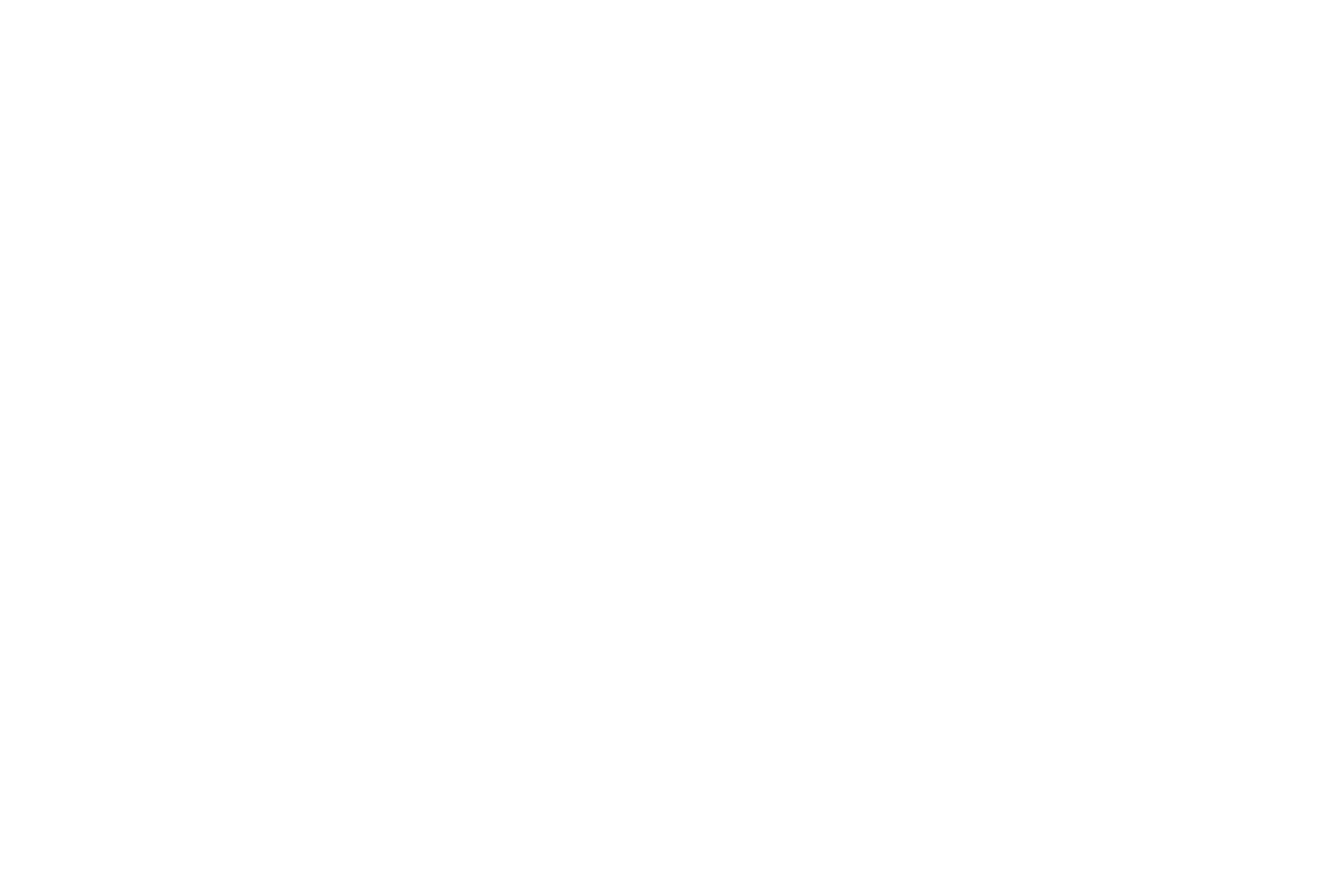
Еще одним шагом, демонстрирующим стремление государства к усилению контроля за деятельностью сообщества, стал Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», согласно которому адвокат обязан в течение трех рабочих дней направить в электронном виде информацию в Росфинмониторинг при наличии подозрения, что его доверитель нарушает законодательство о противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При этом факт такой передачи запрещено разглашать третьим лицам.
Рассматривая независимость в качестве одного из основных принципов деятельности адвокатуры, нельзя забывать и о тесно связанном с ним принципе самоуправления, проявлением которого стало принятие I Всероссийским съездом адвокатов в 2003 г. Кодекса профессиональной этики адвокатов, ведь только идеологически зрелое сообщество способно самостоятельно разрешать внутренние проблемы, следуя утвержденным им же правилам.
Как любой развивающийся институт, адвокатура сталкивается не только с внешними, но и с внутренними проблемами, отрицать наличие которых, полагаю, контрпродуктивно. Более того, отсутствие актуальных вопросов внутрикорпоративного характера означало бы отсутствие демократических начал в адвокатуре. Выявление и эффективное разрешение таких спорных ситуаций на основе принципа самоуправления создают благоприятные условия для стабильной деятельности и развития корпорации.
В июле 2019 г. адвокатское сообщество взволновала весть о том, что в правительстве активно обсуждается вопрос о создании Федерального бюро по делам адвокатуры. В частности, анонсировалось, что планируется создать новый орган исполнительной власти в статусе федеральной службы. В качестве одного из оснований создания такого бюро указывалось наличие кризиса в адвокатском сообществе. Вскоре Минюст опроверг данное заявление.
В декабре 2020 г. министр юстиции РФ Константин Чуйченко выразил мнение, что «в адвокатуре должен в полную меру заработать принцип саморегулирования, который принесет порядок», однозначно дав понять тем самым, что в данный момент адвокатура не самым эффективным образом реализует предоставленные ей возможности разрешения внутренних проблем. При этом он добавил, что «Минюст должен принимать активное участие в экзамене адвокатов. Минюст должен вести единый госреестр адвокатов, чтобы не было сомнительных игр, когда адвокат, лишенный в одном регионе своего статуса, идет и спокойно получает адвокатский статус в другом».
Слова министра юстиции стали закономерной реакций на высказывания некоторых адвокатов о том, что адвокатура находится в глубоком кризисе, а также на их обращения в государственные органы за содействием в разрешении внутренних проблем корпорации. Если серьезный политически значимый институт «не способен» к саморегулированию, значит, ему надо помочь, только вот в чьих интересах такая помощь? Нужна ли она адвокатуре, укрепит ли ее позиции в обществе? Ответы на эти вопросы, думаю, очевидны.
В апреле 2021 г. адвокатское сообщество всколыхнула очередная новость – о том, что в ближайшее время планируется создать при Минюсте федеральное государственное унитарное предприятие «Российская адвокатура – Корпус публичной адвокатуры Российской Федерации». Предполагается, что ФГУП «Российская адвокатура» объединит адвокатов, которые будут оказывать услуги малоимущим гражданам за счет бюджетных средств. Аккредитованные при данной организации адвокаты будут связаны с ней долгосрочными соглашениями, регламентирующими взаимные обязанности. Кроме того, ведется речь о том, что обслуживать на договорной основе государственных юридических лиц за счет средств бюджетов всех уровней смогут только адвокаты, аккредитованные при ФГУП «Российская адвокатура». Таким образом, имеется в виду создать предпосылки для монополизации данной сферы адвокатской деятельности, что неизбежно приведет к ограничению конкуренции. Многие адвокаты будут поставлены перед выбором – либо принять условия работы с ФГУП (какими они будут, остается лишь догадываться), либо остаться без заработка. В настоящее время адвокаты, участвующие в судопроизводстве по назначению, руководствуются в своей деятельности исключительно отраслевым законодательством, а в случае заключения договора с ФГУП они будут подчинены и его условиям, что, полагаю, вряд ли будет способствовать росту их авторитета у доверителей и других профессиональных участников судебного процесса.
Также, на мой взгляд, существует серьезная опасность того, что «государственный защитник» не сможет эффективно противостоять гособвинителю. Безусловно, защита прав и свобод граждан является обязанностью государства, однако вопрос в том, будет ли эффективной государственная защита в лице адвоката, «связанного» обязательствами с ФГУП, от обвинения, выдвигаемого государством? Сможет ли такой защитник быть независимым в своих убеждениях и отстаивать интересы доверителя без опасения «попасть в немилость» руководителей ФГУП?
Действующий институт защиты по назначению является весьма эффективным инструментом реальной защиты прав лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Аналогичные механизмы существуют во многих европейских странах, где зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Например, в Германии обвиняемый в совершении преступления, за которое предусмотрено лишение свободы сроком не менее года, имеет право на бесплатную помощь адвоката. Хотя существует право на юридическую защиту, организованной системы государственных защитников нет. Вместо этого любой адвокат может быть назначен для предоставления конкретному обвиняемому, который может выбрать конкретного адвоката. Вопросы об оплате откладываются до конца судебного разбирательства, и суд определит стоимость дела проигравшей стороне. При оправдании обвиняемого не взимается плата за юридические услуги. В случае признания виновным обвиняемый должен будет оплатить расходы адвоката, если суд не сочтет, что он является малообеспеченным.
Именно такой алгоритм оказания юридической помощи малоимущим гражданам позволяет найти баланс интересов государства и гражданина, а также сохранить независимость адвоката и его возможности качественно оказывать юридическую помощь доверителю.
В мае 2021 г. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Минюста по полномасштабному развертыванию сети государственных бюро бесплатной юридической помощи и подписал поправки (Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 257-ФЗ) в ст. 17 «Оказание бесплатной юридической помощи государственными юридическими бюро» Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», которым государственным юридическим бюро разрешено направлять в органы государственной власти и местного самоуправления, а также общественные объединения и иные организации официальное обращение о представлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания гражданам бесплатной юридической помощи. То есть фактически им предоставлено право, аналогичное праву на направление адвокатского запроса в рамках оказания профессиональной юридической помощи.
Очевидно, что государство медленно, но верно идет по пути усиления влияния на адвокатуру, предпринимая попытки ее «огосударствления». Не менее очевидно, что формальным поводом для такого рода мер являются заявления некоторых адвокатов о «кризисе адвокатуры», о том, что корпорация не способна самостоятельно решать внутренние проблемы, и о наличии «раскола» в органах управления адвокатуры.
Насколько данные утверждения соответствуют действительности?
За последние годы адвокатура существенно укрепила свою независимость – возможно, даже стала более независимой, чем когда-либо за всю историю своего существования. Кроме того, увеличился размер платы за защиту по назначению, представители адвокатского сообщества принимают активное участие в законотворческой деятельности, созданы и эффективно работают комиссии по защите прав адвокатов. Профессиональные успехи коллег также свидетельствуют об усилении авторитета адвокатуры. Так, по данным статистики, при рассмотрении уголовных дел судами с участием присяжных заседателей в 2019 г. защитникам удалось добиться оправдания 24% подсудимых, в 2020 г. – 27%.
За почти 20 лет действия Закона об адвокатуре корпорация прошла серьезный путь самосовершенствования, заложив твердую основу для дальнейшего развития. Эффективная реализация закрепленных в Законе ключевых принципов адвокатской деятельности, включая принципы самоуправления и корпоративности, является безусловной необходимостью и эффективным инструментом для расширения профессиональных возможностей института адвокатуры, что, в свою очередь, повышает уважение к адвокатскому сообществу со стороны государства и его институтов. К сожалению, некоторые коллеги, попирая базовые принципы деятельности адвокатуры, пытаются привлечь правоохранительные органы к разрешению внутрикорпоративных проблем, что неизбежно приводит к умалению авторитета адвокатуры в глазах общества. Хотелось бы верить, что действия коллег не продиктованы злым умыслом, что они искренни заблуждаются, не предполагая, какие негативные последствия влечет каждое такое обращение.
В заключение добавлю, что в начале XX в. на Московском съезде присяжных поверенных был провозглашен тезис «Каждая корпорация сильна своей сплоченностью, сознанием общих своих интересов на почве профессионального труда; вне этого нет сословия, нет корпорации: есть группа лиц, более или менее значительная, механически друг с другом связанных, в сущности, друг другу чужих, посторонних»4, который сейчас как никогда актуален. Сильная, сплоченная корпорация способна эффективно противостоять любым внешним воздействиям, самостоятельно разрешать возникающие проблемы и эффективно развиваться, отвечая на вызовы времени и сохраняя при этом базовые принципы своей деятельности.
Рассматривая независимость в качестве одного из основных принципов деятельности адвокатуры, нельзя забывать и о тесно связанном с ним принципе самоуправления, проявлением которого стало принятие I Всероссийским съездом адвокатов в 2003 г. Кодекса профессиональной этики адвокатов, ведь только идеологически зрелое сообщество способно самостоятельно разрешать внутренние проблемы, следуя утвержденным им же правилам.
Как любой развивающийся институт, адвокатура сталкивается не только с внешними, но и с внутренними проблемами, отрицать наличие которых, полагаю, контрпродуктивно. Более того, отсутствие актуальных вопросов внутрикорпоративного характера означало бы отсутствие демократических начал в адвокатуре. Выявление и эффективное разрешение таких спорных ситуаций на основе принципа самоуправления создают благоприятные условия для стабильной деятельности и развития корпорации.
В июле 2019 г. адвокатское сообщество взволновала весть о том, что в правительстве активно обсуждается вопрос о создании Федерального бюро по делам адвокатуры. В частности, анонсировалось, что планируется создать новый орган исполнительной власти в статусе федеральной службы. В качестве одного из оснований создания такого бюро указывалось наличие кризиса в адвокатском сообществе. Вскоре Минюст опроверг данное заявление.
В декабре 2020 г. министр юстиции РФ Константин Чуйченко выразил мнение, что «в адвокатуре должен в полную меру заработать принцип саморегулирования, который принесет порядок», однозначно дав понять тем самым, что в данный момент адвокатура не самым эффективным образом реализует предоставленные ей возможности разрешения внутренних проблем. При этом он добавил, что «Минюст должен принимать активное участие в экзамене адвокатов. Минюст должен вести единый госреестр адвокатов, чтобы не было сомнительных игр, когда адвокат, лишенный в одном регионе своего статуса, идет и спокойно получает адвокатский статус в другом».
Слова министра юстиции стали закономерной реакций на высказывания некоторых адвокатов о том, что адвокатура находится в глубоком кризисе, а также на их обращения в государственные органы за содействием в разрешении внутренних проблем корпорации. Если серьезный политически значимый институт «не способен» к саморегулированию, значит, ему надо помочь, только вот в чьих интересах такая помощь? Нужна ли она адвокатуре, укрепит ли ее позиции в обществе? Ответы на эти вопросы, думаю, очевидны.
В апреле 2021 г. адвокатское сообщество всколыхнула очередная новость – о том, что в ближайшее время планируется создать при Минюсте федеральное государственное унитарное предприятие «Российская адвокатура – Корпус публичной адвокатуры Российской Федерации». Предполагается, что ФГУП «Российская адвокатура» объединит адвокатов, которые будут оказывать услуги малоимущим гражданам за счет бюджетных средств. Аккредитованные при данной организации адвокаты будут связаны с ней долгосрочными соглашениями, регламентирующими взаимные обязанности. Кроме того, ведется речь о том, что обслуживать на договорной основе государственных юридических лиц за счет средств бюджетов всех уровней смогут только адвокаты, аккредитованные при ФГУП «Российская адвокатура». Таким образом, имеется в виду создать предпосылки для монополизации данной сферы адвокатской деятельности, что неизбежно приведет к ограничению конкуренции. Многие адвокаты будут поставлены перед выбором – либо принять условия работы с ФГУП (какими они будут, остается лишь догадываться), либо остаться без заработка. В настоящее время адвокаты, участвующие в судопроизводстве по назначению, руководствуются в своей деятельности исключительно отраслевым законодательством, а в случае заключения договора с ФГУП они будут подчинены и его условиям, что, полагаю, вряд ли будет способствовать росту их авторитета у доверителей и других профессиональных участников судебного процесса.
Также, на мой взгляд, существует серьезная опасность того, что «государственный защитник» не сможет эффективно противостоять гособвинителю. Безусловно, защита прав и свобод граждан является обязанностью государства, однако вопрос в том, будет ли эффективной государственная защита в лице адвоката, «связанного» обязательствами с ФГУП, от обвинения, выдвигаемого государством? Сможет ли такой защитник быть независимым в своих убеждениях и отстаивать интересы доверителя без опасения «попасть в немилость» руководителей ФГУП?
Действующий институт защиты по назначению является весьма эффективным инструментом реальной защиты прав лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Аналогичные механизмы существуют во многих европейских странах, где зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Например, в Германии обвиняемый в совершении преступления, за которое предусмотрено лишение свободы сроком не менее года, имеет право на бесплатную помощь адвоката. Хотя существует право на юридическую защиту, организованной системы государственных защитников нет. Вместо этого любой адвокат может быть назначен для предоставления конкретному обвиняемому, который может выбрать конкретного адвоката. Вопросы об оплате откладываются до конца судебного разбирательства, и суд определит стоимость дела проигравшей стороне. При оправдании обвиняемого не взимается плата за юридические услуги. В случае признания виновным обвиняемый должен будет оплатить расходы адвоката, если суд не сочтет, что он является малообеспеченным.
Именно такой алгоритм оказания юридической помощи малоимущим гражданам позволяет найти баланс интересов государства и гражданина, а также сохранить независимость адвоката и его возможности качественно оказывать юридическую помощь доверителю.
В мае 2021 г. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Минюста по полномасштабному развертыванию сети государственных бюро бесплатной юридической помощи и подписал поправки (Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 257-ФЗ) в ст. 17 «Оказание бесплатной юридической помощи государственными юридическими бюро» Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», которым государственным юридическим бюро разрешено направлять в органы государственной власти и местного самоуправления, а также общественные объединения и иные организации официальное обращение о представлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания гражданам бесплатной юридической помощи. То есть фактически им предоставлено право, аналогичное праву на направление адвокатского запроса в рамках оказания профессиональной юридической помощи.
Очевидно, что государство медленно, но верно идет по пути усиления влияния на адвокатуру, предпринимая попытки ее «огосударствления». Не менее очевидно, что формальным поводом для такого рода мер являются заявления некоторых адвокатов о «кризисе адвокатуры», о том, что корпорация не способна самостоятельно решать внутренние проблемы, и о наличии «раскола» в органах управления адвокатуры.
Насколько данные утверждения соответствуют действительности?
За последние годы адвокатура существенно укрепила свою независимость – возможно, даже стала более независимой, чем когда-либо за всю историю своего существования. Кроме того, увеличился размер платы за защиту по назначению, представители адвокатского сообщества принимают активное участие в законотворческой деятельности, созданы и эффективно работают комиссии по защите прав адвокатов. Профессиональные успехи коллег также свидетельствуют об усилении авторитета адвокатуры. Так, по данным статистики, при рассмотрении уголовных дел судами с участием присяжных заседателей в 2019 г. защитникам удалось добиться оправдания 24% подсудимых, в 2020 г. – 27%.
За почти 20 лет действия Закона об адвокатуре корпорация прошла серьезный путь самосовершенствования, заложив твердую основу для дальнейшего развития. Эффективная реализация закрепленных в Законе ключевых принципов адвокатской деятельности, включая принципы самоуправления и корпоративности, является безусловной необходимостью и эффективным инструментом для расширения профессиональных возможностей института адвокатуры, что, в свою очередь, повышает уважение к адвокатскому сообществу со стороны государства и его институтов. К сожалению, некоторые коллеги, попирая базовые принципы деятельности адвокатуры, пытаются привлечь правоохранительные органы к разрешению внутрикорпоративных проблем, что неизбежно приводит к умалению авторитета адвокатуры в глазах общества. Хотелось бы верить, что действия коллег не продиктованы злым умыслом, что они искренни заблуждаются, не предполагая, какие негативные последствия влечет каждое такое обращение.
В заключение добавлю, что в начале XX в. на Московском съезде присяжных поверенных был провозглашен тезис «Каждая корпорация сильна своей сплоченностью, сознанием общих своих интересов на почве профессионального труда; вне этого нет сословия, нет корпорации: есть группа лиц, более или менее значительная, механически друг с другом связанных, в сущности, друг другу чужих, посторонних»4, который сейчас как никогда актуален. Сильная, сплоченная корпорация способна эффективно противостоять любым внешним воздействиям, самостоятельно разрешать возникающие проблемы и эффективно развиваться, отвечая на вызовы времени и сохраняя при этом базовые принципы своей деятельности.
Хотите быть полностью уверены в юридических аспектах ведения своего бизнеса, чистоте сделок, не бояться налоговых и полицейских проверок, но при этом держать свой юридический отдел вам не по карману?
В этом случае комплексное юридическое обслуживание от адвокатского бюро «Пчелин и Партнеры» может вам помочь.
В этом случае комплексное юридическое обслуживание от адвокатского бюро «Пчелин и Партнеры» может вам помочь.
